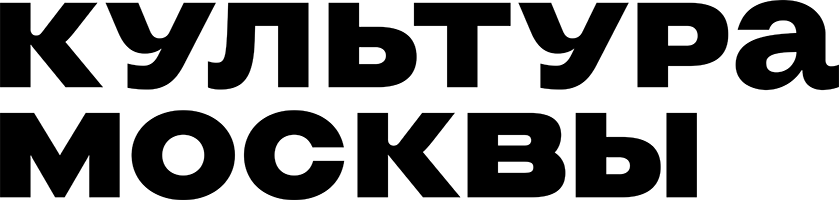Тестовый текст
Дмитрий Налбандян: эстетический ореол ангажемента
Для специалистов в истории советского искусства такая фигура, как Дмитрий Аркадьевич Налбандян, является проблемой художественной идентификации и эстетической оценки. Иначе говоря, художник и его долгое творчество ставят в тупик академическое искусствоведение, если оно стремится следовать общим теоретическим принципам мировой науки об искусстве. Почему в тупик? Читая одну статью за другой, написанные о его творчестве на протяжении многих лет, оказываешься в затруднительном положении: все суждения в высшей степени положительные, везде отмечается неизменно высокий уровень профессионализма, жанровое разнообразие, географическая широта пейзажей, но так и не удается вычленить нечто собственно авторское, оригинальное, опознаваемое как уникальная манера, почерк, тема. Казалось бы, это можно списать на уровень советской художественной критики, которая, как известно, не была вполне самостоятельным эстетическим высказыванием, часто не заботилась об аналитических задачах, слишком зависела от идеологического контроля. Но эти ограничения быливыражены в полной степени только в позднесталинской культурной политике («ждановщине»), начиная с «оттепели» критики и теоретики изобразительного искусства стремятся фиксировать новые веяния, открывают имена, поощряют оригинальность и разрабатывают теоретические маркеры для фиксации динамики и разнообразия художественного процесса. Но и в эти периоды стиль письма о творчестве Налбандяна почти не меняется. Складывается устойчивое впечатление, что тем, кто отслеживает коллизии изобразительного искусства, просто нечего сказать интересного об известном художнике и признанном мастере. А мастер продолжает десятилетиями много работать, в хорошем ритме, не теряя в мастерстве и не пропадая с регулярных масштабных выставок, привозя все новый и новый материал из поездок. В Париже пишет Сену, в Индии – знаменитые буддийские храмы, в Германии – дворцы Дрездена, в Риме – Ватикан. Все – предсказуемо, как в туристическом буклете. Пейзажи, натюрморты, портреты интересны не живописными приемами, уникальностью трактовки или авторским взглядом, а предметной репрезентацией: экзотических природных и архитектурных объектов в пейзажах, известных персон – на портретах. Статьи о художнике отличаются друг от друга перечислением новых объектов и описанием расширения жанровой палитры. Выражения о «бархатной фактуре фруктов в натюрмортах» или «художник глубже постигает законы цветовых отношений, передавая предметный мир во всем его многообразии» переходят из одной статьи в другую, и в одинаковой степени эти характеристики применимы к множеству советских художников, вполне успешных и плодовитых.
Впрочем, предположим, это вовсе не проблема творческого лица Налбандяна, а всего лишь характеристика среднестатистического продукта советской художественной критики. Возможно, критики проглядели нечто в художнике, их взгляд «замылился», что вполне вероятно на фоне огромного вала выставок советского официального искусства. Тем не менее, примем во внимание факт отсутствия запоминающейся и аргументированной трактовки творчества Дмитрия Налбандяна в академической художественной среде. В ней не нашлось места и повода для того, чтобы идентифицировать художника с чем-то таким, чего не встретишь у других мастеров. Везде в текстах о нем он предстает как тот, кто «разрабатывает» и «продолжает» уже начатое и открытое кем-то другим. Складывается впечатление, что ни в чем он не был первым: ни в открытии канона ленинианы, ни в жанре портрете, ни в натюрморте, ни в пейзаже.
Итак, попробуем взглянуть на творчество Дмитрия Налбандяна свежим взглядом, отложив в сторону советскую академическую рецепцию. Впрочем, интересно отметить, что и в постсоветскую эпоху, когда на протяжении первых десятилетий происходила искусствоведческая ревизия многих титульных имен советского искусства, и многие из них помещались в контекст новых философско-эстетических концепций, Налбандяну снова не довелось стать объектом серьезного аналитического исследования. Создателям новых версий истории советского искусства Налбандян стал неинтересен. Особенно популярной в 1990-е годы была концепция тоталитарной культуры, которая дала теоретический метод интерпретации большого слоя официального советского искусства с начала 1930-х годов и, по крайней мере, до конца 1950-х. Но изнутри этой концепции творчество Налбандяна схватывается только отчасти, так как для иллюстрации тоталитарной модели в искусстве гораздо больше подходят другие персоны, воплотившие эстетику культа вождей, единство партии и народа, роль масс в строительстве нового общества наиболее образцово. Поэтому именно их картины висят в залах музеев, посвященных канону соцреализма как главных его творцов и выразителей. Мы не найдем у Налбандяна и его героев ни эффектной репрезентации величия власти, ни напряженности и брутальности героического, ни ликования и масштаба индустриальной темы.Энергетически и эстетически его творчество не тоталитарно. Он никоим образом не певец масштабного преобразования мира. В его картины не встроено мобилизующее начало, которое так увлекало и соблазняло многих художников, талантливых и даже гениальных.
Предложим свою версию решения проблемы идентификации художника. Дело в том, что классические истории искусства пишутся в парадигме, которая сложилась в период общества модерна, когда утвердились правила существования и функционирования автономного поля искусства. Понятие поля искусства было предложено и разработано главой школы структуралистской/критической социологии культуры П. Бурдье. Бурдье, его последователи и ученики, описали процессы становления поля с конца 18 века и до 60-х годов 20 века на материале французской литературы. Кратко о сути их открытия: благодаря формированию свободного рынка, художники (мы используем этот слово в широком смысле: писатели, композиторы и т.д. – творцы искусства) отделились от необходимости иметь заказчика. Свободный (то есть всеобщий) рынок имеет дело не с конкретным заказчиком, а с анонимным. В итоге художники обрели независимость, и их высшими ценностями стали свобода творчества, выражение своего внутреннего мира, оригинальность личностного начала. Но в любом обществе, как известно, невозможно эти принципы реализовать в чистом виде. И тогда, в ответ на эту новую потребность художников, возникает особое пространство – мир искусства, внутри которого устанавливаются правила, позволяющие определить художественную ценность произведения, не опираясь на требования публики, издателей, антрепренеров и т.п. Автономизация поля искусства, с собственной логикой и правилами, отличными от логики и правил политических, экономических и религиозных властей, — это социокультурная реальность двух последних веков. Автономизация поля искусства — результат появления особого корпуса производителей, правомочных выносить эстетическое суждение о продуктах художественного творчества и определять их символическую ценность. Что же это за правила, если это не заказ власти или требования публики? Специалисты в поле культуры – сами художники, художественные критики, философы, кураторы и т.п., – оценивают ценность каждого произведения только на фоне всей истории того или иного вида искусства. Важнейшим критерием становится новизна и оригинальность, которые могут быть увидены только на фоне традиций. Обогащение поля искусства новыми темами, приемами, жанрами – главный аргумент в присвоении произведению высокой символической ценности. В Российской империи тоже возникло автономное поле искусства со своими вердиктами, выносимыми на страницах специализированных изданий авторитетными критиками.
Но в СССР культурная политика с самого начала образования государства сделала существование автономного поля проблематичным. Понятие социального заказа и требования к произведениям искусства в период доминирования соцреалистической доктрины были внутренне противоречивы, если не сказать – парадоксальны. Власть и поддерживающие ее интеллектуалы в своих программных текстах настаивали на высоком уровне художественных профессий и ответственной роли специалистов, который этот уровень обеспечивали. Для этого были возрождены многие институции академического толка. Были созданы творческие союзы с предполагаемой самостоятельностью в решении творческих задач, а также специализирующиеся на исследовании искусства журналы, научные институты, издательства. Но в то же время мы знаем, что решающий голос в присвоении символической ценности (например, присуждение премий в области искусства и литературы, решение комиссий о приемке спектаклей и кинофильмов) принадлежал специалистам совсем в другой области – политико-идеологической.
Художники, долго живущие в этой системе, проявляли чудеса адаптации, чтобы реализовать свой творческий потенциал. Сейчас нам доступны биографические исследования многих талантливых деятелей искусства, по которым мы можем изучить разнообразие стратегий (В. Катаев, Д. Шостакович, К. Станиславский, А. Дейнека, М. Ромм). Изучение творчества таких авторов, как Сергей Прокофьев, Алексей Толстой или Юлий Райзман, знание фактов истории советской культуры приводит к мысли, что лояльность к власти и даже стремление всерьез выполнить ее заказ отнюдь не обязательно сопровождались угасанием таланта, а необходимость так или иначе договариваться с институциями, отвечающими за выход к аудитории книг, фильмов, музыкальных текстов, входила в повседневную практику деятелей искусства, могла и побуждать к «порче» задуманного творцом, но и восприниматься как обычная часть творческого процесса, и даже становиться толчком для развития. Но во всех случаях биографы фиксируют периоды мучительных размышлений, трудности выбора способов адаптации, драматизм принимаемых решений под давлением обстоятельств, часто – творчество «в стол», «для себя», «для будущего». Реализация своего, заветного остается на первом месте, остальное – дело границ компромиссов.
А что же мы можем сказать в этом контексте о Налбандяне? Знаем ли мы что-то о его внутренних проблемах в отношениях с трендами культурной политики? Вся доступная нам масса источников свидетельствует об отсутствии разлада художника с самим собой. Возникает впечатление, что ему даже не нужно было приспосабливаться, ведь любое приспособление предполагает наличие своего и чужого (или другого – в значении не своего). Подробное жизнеописание демонстрирует полное совпадение и с культурной политикой, и с динамикой художественного процесса. По его картинам можно составить график соответствий трендам культурной политики. Например, в «оттепель», когда возвращается ленинское наследие и образ Ленина под влиянием либеральных веяний гуманизируется, очеловечивается, он развивает свою лениниану в этом русле. На повестке дня «прославление рядового человека труда», – он пишет, как и многие другие художники, портреты производственников. Он идет вслед не только идеологической повестки дня, но и чутко откликается на раздвижение границ в использовании формальных средств: его натюрморты и пейзажи 1970-х годов демонстрируют владение импрессионистской и постимпрессионисткой техникой. Читая внимательно его биографию, понимаешь, что влияние «мирискусников» и других деятелей Серебряного века не проникало в его работы периода ортодоксального соцреализма, ориентирующего художников на образцы передвижничества или академической живописи. Он умел и то, и другое, но здесь важен акцент: когда это стало разрешено.
Первое, что бросается в глаза, если мы сохраним установку «незамыленного взгляда» – его поразительная легкость в следовании курсу, не им созданному, но им принятому безоговорочно. И здесь мы снова обратимся за поддержкой к Бурдье: споря с романтической идеологией «несотворенного творца», которая находит самое совершенное выражение в сартровском понятии «творческого замысла» и обосновывает чисто герменевтический подход к произведениям, Бурдье напоминает, что их творцы не ускользают от требований, правящих социальным миром. Дмитрий Налбандян совсем не стремился ускользать от этих требований. Наоборот, нуждался в них. Мы использовали слово «легкость» в попытке определения его идентичности как советского художника. Легкость – это, в конце концов, качество живописи Налбандяна, отсюда его постоянная любовь к импрессионистической технике. Возникает ощущение, что пишет он быстро (легко!), и ему более всего важно общее впечатление, нежели глубокая проработка фактуры, сюжета или психологии. И еще одна коннотация легкости: она симптом отсутствия трудности выбора стратегии, отказа от своей индивидуальности. Отсутствие ярко выраженного авторского лица – не результат огромных усилий или психологической травмы, так часто сопутствующей советским авторам (примеров множество: от замолчавших надолго до спившихся поэтов и прозаиков), а изначальное состояние. Судя по всему, Дмитрия Аркадьевича всю жизнь волновала и увлекала живопись как таковая, именно поэтому он не мог остановиться, даже когда никаких явно выраженных сигналов в социальном пространстве не звучало. Он действительно любил свою профессию. И это, как ни странно, тоже один из эффектов соцреализма. Пройдя через этапы идеологических поворотов от революционного искусства к национально-традиционалистскому, а затем к «социализму с человеческим лицом», соцреализм оставил за собой первенство в создании квазихудожественного произведения, или «искусства всех времен и народов». Это «искусство вообще» – внеисторическая абстракция, с позиции автономного поля искусства и классического искусствоведения – вещь невозможная. Но внутри советского поля культуры – возможна, и даже приветствуется. Именно поэтому советская культура неслучайно выдвинула этого художника на вершину славы и успеха, его творческая манера оказалась наиболее последовательно, – хотя и совершенно нерефлексивно! – конгениальна скрытым желаниям социалистического проекта.
Круглова Татьяна Анатольевна, доктор философских наук, доцент, Уральский федеральный университет им. Первого президента РФ Б.Н. Ельцина, профессор кафедры истории философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры, г. Екатеринбург.
Dmitry Nalbandyan: the aesthetic aura of engagement
For experts in the history of Soviet art, someone like Dmitry Nalbandyan is problematic in terms of artist identification and aesthetic judgement. In other words, if one seeks to follow the general theoretical principles of the world scholarship on art when studying Nalbandyan’s long oeuvre one will be in a deadlock. Why? When reading articles about his work written over the years, one is faced with a predicament: all the judgements are highly positive, pointing to a consistently high level of professionalism, genre diversity, geographical breadth of landscapes, yet it is not possible to identify something that is actually of the author – something original, recognisable as a unique style, handwriting, theme. Seemingly, this could be attributed to the level of Soviet art critique. Notoriously, it was not quite an autonomous aesthetic statement, often it did not care about analytical tasks, and it was too dependent on ideological control. But these limitations were only fully expressed in the cultural policy of the late Stalin Era (“Zhdanovshchina”). Since the Thaw, critics and theorists of the visual arts have sought to capture new trends, discover names, encourage originality, and develop theoretical markers to capture the dynamics and diversity of the artistic process. Yet the writing style about Nalbandyan's work remains almost unchanged even during these later periods. There is a strong impression that those who follow the collisions of fine arts simply have nothing interesting to say about a well-known and recognised artist.
Meanwhile, the artist continues to work hard for decades, in a good rhythm, without losing his mastery and without disappearing from regular large-scale exhibitions, bringing more and more material from his travels. In Paris he paints Seine, in India – the famous Buddhist temples, in Germany – the palaces of Dresden, in Rome – the Vatican. Everything is predictable, like in a tourist booklet. Landscapes, still lifes and portraits are of interest not for their painterly techniques, unique interpretation or author's view, but for the subjects they represent: exotic natural and architectural objects in landscapes, famous persons in portraits. Articles about the artist differ from each other by listing new objects and describing the expansion of the genre palette. Expressions about “the velvet texture of fruit in still lifes” or “the artist more deeply grasps the laws of colour relations, conveying the object world in all its diversity” go from one article to another. These characteristics are equally applicable to many Soviet artists, quite successful and prolific.
However, let us assume that this is not at all a problem of Nalbandyan's art face, but merely a feature of the average product of Soviet art critique. Perhaps the critics missed something in the artist, their eyes got lazy, which is quite probable against the background of a huge swathe of exhibitions of Soviet official art. Nevertheless, let us take into account the fact that there is no memorable and reasoned interpretation of Dmitry Nalbandyan's work in the academic art community. There is no place or reason to identify the artist with something that cannot be found in other masters. Everywhere in the texts about him, he appears as someone who “develops” and “continues” what someone else has already started and discovered. It seems that he was not the first in anything: neither in the discovery of the Leniniana canon, nor in the genre of portraiture, nor in still life, nor in landscape.
So, let us try to look at Dmitry Nalbandyan's work with a fresh eye, putting aside the Soviet academic reception. Although, it is interesting to note that even in the post-Soviet era – when during the first decades many titular names of Soviet art underwent an art historical revision and were placed in the context of new philosophical and aesthetic concepts – Nalbandyan again failed to become the object of serious analytical research. Nalbandyan was of no interest to the creators of new versions of Soviet art history. A particularly popular concept in the 1990s was the concept of totalitarian culture, which provided a theoretical method for interpreting a large layer of official Soviet art from the early 1930s and at least until the late 1950s. But this concept only partially captures Nalbandyan's work, there are other much more suitable artists to illustrate it – those who embodied the aesthetics of the cult of the leaders, the unity of the party and the people, and the role of the masses in building a new society in the most exemplary way. That is why it is their paintings that hang in the halls of museums dedicated to the canon of socialist realism. Nalbandyan and his heroes do not represent the grandeur of power, nor the tension and brutality of the heroic, nor the jubilation and scale of the industrial theme. His work is not totalitarian. Neither its energy nor its aesthetics. He is in no way a singer of large-scale transformation of the world. His painting does not incorporate the mobilising principle that has fascinated and seduced many talented and even brilliant artists.
Here I give my own solution to the problem of the artist identification. In fact, classic art histories are written in the paradigm that evolved during modernity. With the development of modern society, the rules of autonomous art field were established. The concept of the art field was introduced by Pierre Bourdieu who led the structuralist/critical sociology of culture school. Bourdieu, his followers and students researched the processes of field formation from the end of the 18th century to the 60s of the 20th century based on French literature. To summarise their research conclusion: due to the formation of the free market, artists (creators of art) separated themselves from the need to have an employer. The free (i.e., universal) market does not deal with a specific customer, but with an anonymous one. As a result, artists gained independence, and their highest values became freedom of creativity, expression of their inner world, and personal originality. But in any society, as is well known, it is impossible to realise these principles in their pure form. And so, to meet this new need of artists, a special space emerges – the world of art. There the rules are established to determine the artistic value of a work without relying on the demands of the public, publishers, entrepreneurs, etc. The autonomisation of the art field, with its own logic and rules, different from the logic and rules of political, economic and religious authorities, is a socio-cultural reality of the last two centuries. The autonomisation of the field of art is the result of the rise of a special corps of producers who are entitled to make an aesthetic judgement on the products of artistic creation and determine their symbolic value. What kind of rules are these, if they are not the order of the authorities or the demands of the public? Experts in the cultural field – artists themselves, art critics, philosophers, curators, etc. – assess the value of each work only against the background of the entire history of a particular art form. The most important criterion becomes novelty and originality, which can be seen only against the background of tradition. New themes, techniques and genres that enrich the field of art are the main argument in assigning high symbolic value to a work. In the Russian Empire, too, an autonomous field of art emerged with its own verdicts pronounced on the pages of specialised publications by authoritative critics.
However, in the USSR, cultural policy from the very inception of the state made the existence of an autonomous field challenging. The notion of social order and the requirements for artworks during the period dominated by the socialist realist doctrine were internally contradictory, if not to say paradoxical. The authorities and the intellectuals who supported them insisted in their policy texts on the high level of artistic professions and the crucial role of the specialists who ensured this level. To this end, many academic institutions were reactivated. Creative unions with supposed autonomy in solving creative problems were created, as well as journals, scientific institutes, and publishing houses specialising in the study of art. But at the same time, we know that the decisive voice in the assignment of symbolic value (for example, the awarding of prizes in the field of art and literature, the decision of commissions on the acceptance of performances and films) belonged to those who specialised in a completely different field – political and ideological.
Artists who lived in this system for a long time showed miracles of adaptation to implement their creative potential. Today biographical studies of many talented artists are accessible – one can study various strategies that were used (V. Kataev, D. Shostakovich, K. Stanislavsky, A. Deineka, M. Romm). When the works of authors such as Sergei Prokofiev, Alexey Tolstoy or Yuli Raizman are juxtaposed with the facts of Soviet cultural history, one can see that loyalty to the authorities and even the willingness to seriously fulfil their orders were not necessarily accompanied by the fading of talent. The need to negotiate in one way or another with the institutions responsible for bringing books, films, and musical texts to audiences was part of the everyday practice of artists. It could induce them to “spoil” what they had conceived, but it could also be understood as a regular part of the creative process, and even become an impetus for development. But in every case, biographers note periods of painful reflection, difficulties in choosing ways of adaptation, dramatic decisions made under the pressure of circumstances – often creating art “for posterity”, “for myself”, “for the future”. The realisation of one's own, cherished goals comes first, the rest is a matter of compromise boundaries.
In this context, what can be said about Nalbandyan? What is known about his internal problems in his relationship with the trends of cultural policy? All the available sources testify to the absence of any inner conflict. One gets the impression that he did not even need to adapt, because any adaptation presupposes the presence of one's own and another's (or other – in the sense of not one's own). A detailed biography shows a complete coincidence with both cultural politics and the dynamics of the artistic process. One can draw up a graph of correspondences to the trends of cultural policy from his paintings. For example, during the Thaw, when the Lenin legacy came back and the image of Lenin was humanised under the influence of liberal trends, he developed his Leniniana in this line. When the “glorification of the ordinary man of labour” is on the agenda, he paints, like many other artists, portraits of production workers. Not only does he follow the ideological agenda, but he is also sensitive to the pushing of boundaries in the use of formal means: his still lifes and landscapes of the 1970s demonstrate his mastery of impressionist and post-impressionist techniques. When reading his biography carefully, one realises that the influence of the “miriskusniki” and other Silver Age figures did not infiltrate his works from the period of orthodox socialist realism, which oriented artists towards the examples of the realist tradition of Peredvizhniki or academic painting. He could do both, but the key factor – it had first to become authorised.
The first striking point is his remarkable ease in following a course which he did not create but which he accepted unconditionally. (That is of course when looking with a fresh eye). Bourdieu's help is again sought here: in arguing against the Romantic ideology of the “uncreated creator”, which finds its most perfect expression in Sartre's notion of “creative intention” and justifies a purely hermeneutic approach to works, Bourdieu reminds us that the creators do not escape the demands of the social world. Dimitry Nalbandyan did not seek to elude these demands at all. On the contrary, he needed them. The word “lightness” was used in an attempt to define his identity as a Soviet artist. Lightness is, after all, a quality of Nalbandyan's painting, hence his constant love of impressionist technique. One gets the feeling that his painting process is quick (light!), and that he cares more about the overall impression than about deep elaboration of texture, plot, or psychology. And there is another connotation with lightness: it is a symptom of the absence of difficulty in choosing a strategy, of abandoning one's individuality. The absence of a pronounced signature is not the result of great effort or psychological trauma, which often accompanied Soviet authors (examples abound: from those who were silenced for long periods of time to poets and prose writers who fell asleep), but an initial condition. By all accounts, Dmitry Nalbandyan was excited and fascinated by painting as such all his life. That is why he could not stop, even when there were no clearly expressed signals in the social space. He really loved his vocation. And this, strangely enough, is also one of the effects of socialist realism. Having passed through the stages of ideological turns from revolutionary art to national-traditionalist art, and then to “socialism with a human face”, socialist realism left behind its primacy in the creation of quasi-artistic work, or “art of all times and peoples”. This “art in general” is an extra-historical abstraction. From the standpoint of the autonomous field of art and classic art history, it is an impossible thing. But within the Soviet field of culture, it was possible, and even welcomed. That is why it was no coincidence that Soviet culture promoted this artist to the top of fame and success; his creative style proved to be the most consistently – though completely unreflexively – congenial to the latent desires of the socialist project.
Tatyana Kruglova, Doctor of Philosophy. Associate Professor in Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin. Professor of the Department of History of Philosophy, Philosophical Anthropology, Aesthetics and Theory of Culture. Yekaterinburg, Russia.